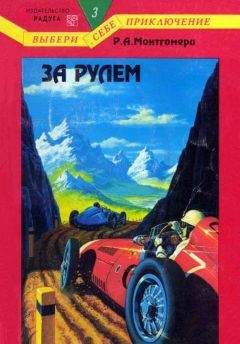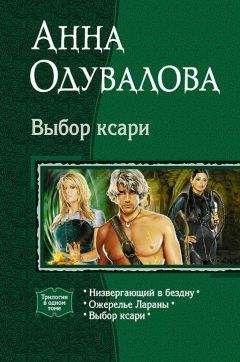Стэн Барстоу - Любовь… любовь?
— По этой книге был поставлен фильм, — говорю я ей, просто чтобы что-то сказать. — С Гарри Купером и Ингрид Бергман.
— Моей тезкой.
— Что?
— Я имею в виду Ингрид Бергман. Ведь меня назвали в ее честь. Мама одно время была без ума от нее. От нее и от Лесли Ховарда. Если бы я была мальчиком, меня, наверно, назвали бы Лесли.
— Я как раз думал, что у вас странное имя для англичанки, — говорю я. — И собирался спросить, почему нас так зовут.
— По-моему, совсем не странное. Мне оно нравится.
— Странное не в смысле «плохое». Я хотел сказать, что оно необычное.
— А вы бы предпочли, чтобы меня звали Мэри, или Барбара, или еще как-нибудь в этом роде?
— Дороти, — говорю я. — Вот имя, которое мне очень нравится.
Она шутливо подталкивает меня в бок локтем и улыбается:
— Да ну вас!
Я смеюсь и сую книгу в другой карман.
— Все равно вы мне нравитесь такая, как вы есть, — говорю я ей.
Минута молчания, потом она говорит:
— Правда, Вик? Честное слово?
Мне хотелось бы сказать ей, что я люблю ее, что я от нее без ума, но я не могу бухнуть это так, сразу, и я говорю только:
— Наверно, я не бегал бы за вами, будь это иначе, правда?
— Пожалуй, нет.
Я снова обнимаю ее за плечи; она придвигается ко мне совсем близко, и я чувствую ее волосы на своем лице. Я поворачиваюсь, и губы мои касаются её щеки, а секундой позже я уже покрываю ее лицо быстрыми короткими поцелуями — все лицо, все: лоб, щеки, глаза, нос и, наконец, рот. Я снова и снова целую ее губы, едва касаясь их губами, словно одного долгого поцелуя мне было бы недостаточно. И между поцелуями снова и снова шепчу ее имя.
Потом мы разжимаем объятия, чтобы передохнуть.
— Уф! — произносит она с легким смешком. — Все-таки плохо быть девчонкой, — говорит она немного погодя. — А вдруг вы бы не заговорили больше со мной после того воскресенья! Сколько времени могло бы пройти, прежде чем мне удалось бы дать вам понять, что я хочу с вами встречаться.
— Ох уж эта Дороти! Она чуть нам все не испортила.
— А знаете, она бы, наверно, не возражала. Хоть она и моя подруга, а все же стервозная она девка. И такая завистливая! Понимаете, завидует мне, потому что я встречаюсь с вами. В этом-то и беда ее, что она завистливая.
— А почему бы ей самой не завести себе приятеля? — говорю я с легким сердцем, потому что у меня есть Ингрид, а Дороти я могу великодушно предоставить всякому, кому охота.
— Она утверждает, что не любит мужчин. Во всяком случае, делает вид, будто она выше всего этого.
— Неужели никто никогда не назначал ей свидания?
— По-моему, нет.
— Тяжелый случай.
— Дело в том, что она не очень привлекательна, правда? Ну, если говорить по-честному, вы же тоже не находите ее привлекательной, правда?
— Я нахожу вас привлекательной, — говорю я, а сам у думаю, что уже хватит нам сидеть порознь.
И мы снова целуемся — на этот раз долго, неотрывно, и я весь таю, и мне кажется, что я сейчас умру от нежности к ней. Теперь уже мы не разжимаем объятий, а сидим, прижавшись друг к другу, и я осторожно провожу пальцами по ее лбу, по щеке и опять приникаю к ее губам. Она умеет целоваться, и это так возбуждает меня, что я прижимаю ее к себе все крепче и крепче — уж крепче быть не может. А мысли у меня скачут: ведь если она целует меня так, значит, как бы дает мне зеленый свет и разрешает пойти дальше, но я не уверен, что это так. А вдруг я все испорчу, оскорбив ее. Мы снова целуемся, и снова это восхитительное ощущение от движений ее языка, и я думаю: да нет, вроде все в порядке, ошибки быть не может, она сочтет меня слюнтяем, если я ничего не предприму. Я просовываю руку под борт ее пальто, и она слегка изгибается, чтобы мне удобнее было. Вот я уже нашел пуговицы ее блузки, но тут — стоп: под блузкой настоящая сбруя и где там что, ничего не поймешь. Она что-то бормочет, отодвигается от меня и сама спускает с плеча бретельку. Потом снова придвигается, шепчет: «Ну вот», и моя рука уже на прежнем месте, и я чувствую под пальцами шелковистую кожу и упругий сосок, и все внутри у меня тает от нежности к ней. «Боже мой! — шепчу я. — Я без ума от тебя, Ингрид!» Пальцы ее сплелись у меня на затылке, зарылись в мои волосы, и она все снова и снова повторяет: «Вик, о Вик!» А я думаю о том, что ради этого стоило родиться, что этой минуты я ждал всю жизнь — с тех пор как себя помню. И это еще не все, потому что позже, когда рука моя перебирается ниже, я чувствую, что и она испытывает то же, что и она ждала этой минуты; она вздрагивает при моем прикосновении, вздыхает и замирает в моих объятиях, а я люблю ее так, как можно любить только в мечтах.
А потом она, видно, задумывается и, прильнув к моему плечу, шепотом спрашивает:
— Вик, а, Вик, скажи, ты не считаешь меня слишком доступной?
— Почему?
— Ну, из-за того… что сейчас произошло?
— Ты не должна никогда так думать, — говорю я ей. — Никогда. — И снова покрываю ее лицо поцелуями — каждый квадратный дюйм ее лица, потому что я хочу, чтобы она почувствовала, как я благодарен ей, как люблю ее, а после сегодняшнего вечера стал любить еще больше.
Домой я возвращаюсь поздно. Старушенция поджидает меня: стоя спиной к камину, она заводит будильник. Старик, видимо, уже лег спать.
— Хорош, — говорит Старушенция, а я останавливаюсь на пороге, зажмурившись от яркого света.
— А что такое?
— Его пригласили на чай, а он взял и удрал. И что только подумал Дэвид.
— Он что-нибудь сказал?
— Это же воспитанный человек. Тебе бы поучиться у него, как себя вести.
— Я ведь сказал Крис. И она не возражала.
— Ну, наша Кристина вечно тебя покрывает. Да и что, собственно, она могла сказать? Не держать же тебя силой, раз ты заявил, что уходишь.
Я сажусь в кресло и расшнуровываю ботинки. Чувствую, что лицо у меня красное, щеки горят, но я крепко сжимаю губы, чтобы не испортить сегодняшний вечер.
— Постыдился бы, — говорит Старушенция.
— Послушай, — говорю я, — ведь я был приглашен на чай к собственной сестре, а не в Букингемский дворец. На чай. Значит, я вовсе не обязан был сидеть там до ужина.
Старушенция берет с камина свою чашку и допивает остатки чая.
— Когда тебя приглашают к чаю, — не отступается она, — это не значит, что ты должен бежать из дому, как только встали из-за стола.
— Опять ты, как всегда, преувеличиваешь. Во всяком случае, я объяснил все Крис, и она не возражала.
— Что же ты объяснил? А я вот даже не знаю, где ты был, по какому такому важному делу.
Я встаю и, повернувшись к ней спиной, выуживаю свои ночные туфли из-под стула.
— У меня было свидание.
— С девицей?
— Да.
— Но ты еще две недели назад знал, что сегодня мы к идем к нашей Кристине.
— Мы должны были встретиться вчера, но произошла небольшая путаница, и пришлось отложить встречу на сегодня.
— А мне казалось, ты говорил, что вчера вечером был где-то с приятелем?
— Я и был. Я же сказал тебе, что произошла путаница.
— Что-то это для меня слишком мудрено, — говорит она. — Все какие-то тайны.
Я чувствую, что помимо воли начинаю свирепеть. Ну, зачем она все портит? Знай она, что произошло сегодня в парке, можно себе представить, как бы она все опошлила, загрязнила, а ведь ничего пошлого и грязного не было. Я надеваю домашние туфли, не поднимая головы, но чувствую, что она наблюдает за мной.
— А я знаю эту девицу?
— Нет.
С минуту она молчит, потом произносит каким-то странным, неестественно тоненьким голоском:
— Надеюсь, ты расскажешь то, что мне положено знать, когда придет время.
— Что у нас на ужин?
— В хлебнице лежит батон. Можешь приготовить себе чашку какао. А я иду спать.
— А молока у нас много?
— Достаточно.
— Тогда я выпью стакан молока.
— Оставь только нам с отцом к завтраку. — Она направляется к двери, держа в руке будильник, который тикает в тишине, как метроном. — Пожалуйста, не сиди долго и не забудь выключить свет.
Я иду на кухню, нахожу батон, разрезаю его вдоль и густо намазываю маслом. Интересно, почему Старушенция не стала расспрашивать меня подробнее об Ингрид? Поразмыслив над этим, я прихожу к выводу, что в глубине души она была даже рада, узнав, что я ходил куда-то с девушкой.
Беру батон, молоко, возвращаюсь в гостиную и сажусь у огня. Вся беда в том, что, в общем-то, мне и самому это начинает казаться пошлым и грязным. Ведь об этом даже говорить не положено, просто так уж повелось испокон веков, и надо, чтобы продолжался род человеческий, однако людей, которые занимаются этим ради удовольствия, ставят на одну доску с пьяницами и картежниками. Такие мысли невольно приходят мне в голову, хоть я и знаю, что это неправда, во всяком случае у Крис с Дэвидом, да и у меня с Ингрид это не так.